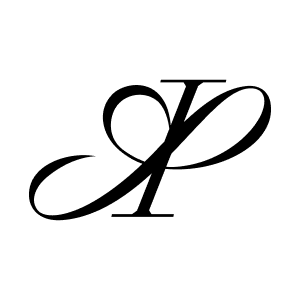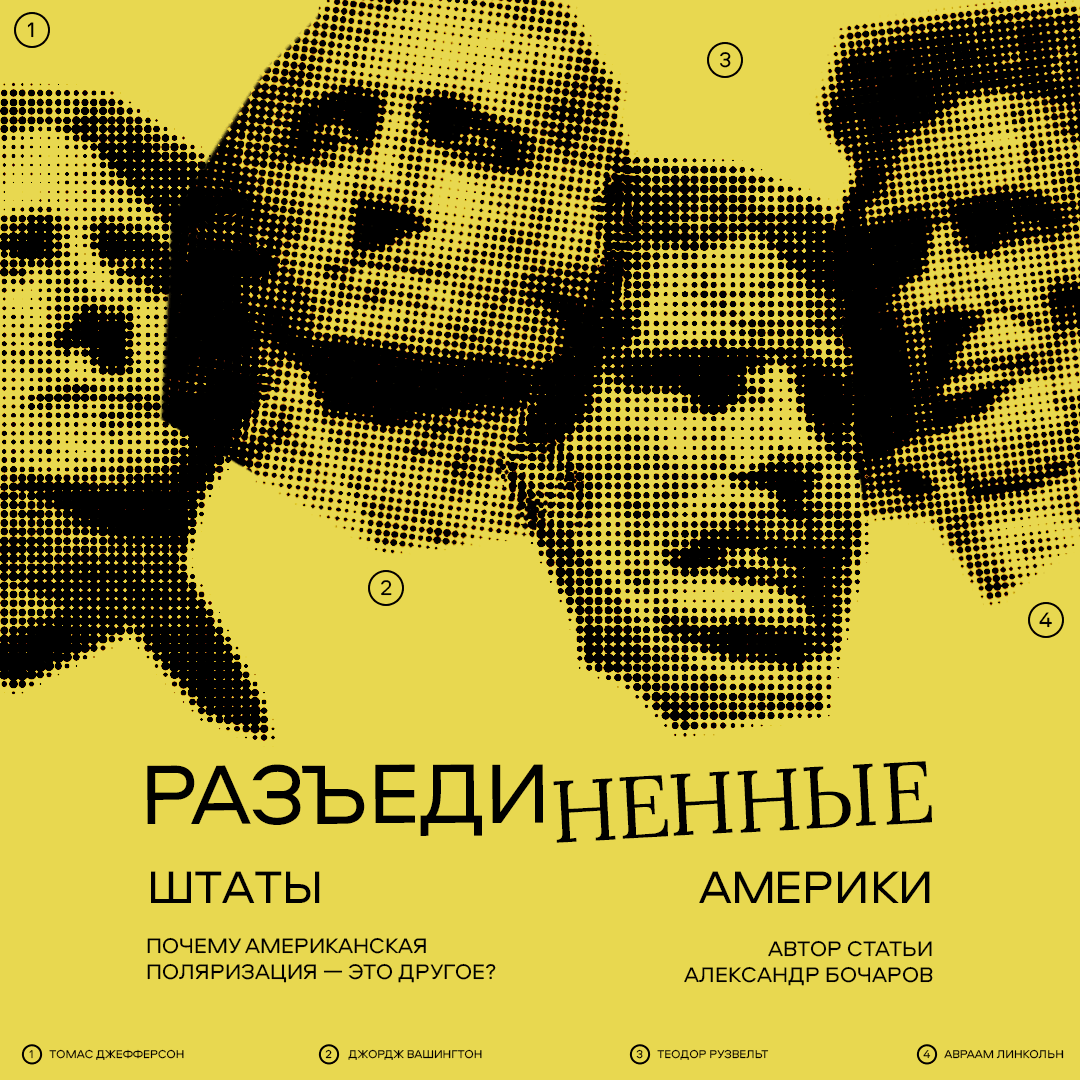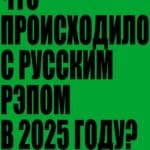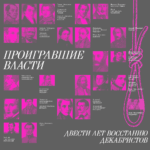Последние недели США, а следом за ними и весь мир обсуждают убийство консервативного активиста Чарли Кирка, застреленного во время выступления на кампусе в Университете долины Юты.
Хотя расследование еще не завершено, горячие головы по разную сторону баррикад уже успели найти виновных, разгадать мотивы преступника и даже вскрыть глубинные причины случившегося. Началась «специальная олимпиада» по поиску идеологических корней нападения, замеру уровня политического насилия, совершаемого «левыми» и «правыми» в США, обсуждению личности погибшего активиста и его взглядов, а также поиску «моральных уродов» среди отдельных пользователей интернета, людоедские высказывания которых якобы репрезентируют мнение воображаемых больших сообществ.
Словесные баталии, отголоски которых доходят до нашей стороны океана, — результат высокой аффективной поляризации и взаимной враждебности между группами в американском обществе. Она проявляется в разных формах: от негативного отношения к людям противоположных взглядов до оправдания насильственных действий и ограничения прав «несогласных». Естественно, ни в одной стране поляризация не затрагивает 100% населения, поскольку большинство избирателей вообще не имеют четких политических взглядов и не вовлечены активно в общественные дискуссии. Однако ее масштабы зависят от того, какая доля граждан вообще политизирована и насколько они не приемлют людей других взглядов.
В этой колонке я не хотел бы устраивать очередной виток обсуждений тем, упомянутых выше. В русскоязычном пространстве ознакомиться с аргументами сторон можно у Павла Дубравского, Константина Сальникова, Арсентия Тропаревского и Михаила Пожарского.
Лишь вкратце оговорюсь: политическое насилие в США исходит от представителей разных лагерей, а не одного конкретного. Оценки масштабов таких действий, а также их одобрения в обществе, зависят от методологии исследований и вообще от того, что понимать под насилием. Нападения на политиков и активистов в этой стране, увы, случались не раз в прошлом. Поэтому в недавней трагедии нет ничего уникального.
Скорее, мне интересно разобраться, что происходит с поляризацией в США относительно других стран, по каким причинам американцы так обозлились друг на друга и можем ли мы сделать из этого какие-то глобальные выводы.
Уникальность американского случая
Американские проблемы неизменно становятся мировыми темами. Во многом из-за культурного влияния США и их места в глобальной политике. Зачастую реалии этой страны проецируются на другие государства — и это совершенно некорректно.
Действительно, среди развитых демократий США являются одними из чемпионов по уровню поляризации. Так, среди 12 стран ОЭСР за последние 40 лет, если судить по количественным опросам, аффективная поляризация выросла сильнее всего именно в Штатах. В пяти государствах рост оказался менее значительным, а в шести — поляризация и вовсе снизилась. Это подтверждают как национальные американские опросы, так и статистика голосования членов Конгресса от двух партий, которые все реже поддерживают законопроекты друг друга.
Да, не только США столкнулись с ростом взаимной неприязни избирателей. Но в сравнении с другими экономически благополучными, технологически развитыми и демократическими странами случай Штатов выглядит действительно исключительным.
Страшилка социальных сетей
Довольно популярный в медиа и академии нарратив — обвинять в росте поляризации распространение интернета, особенно социальных сетей, чьи рекомендательные алгоритмы сталкивают людей лбами. Но это слишком простое и ограниченное объяснение.
В недавней колонке философ Дэн Уильямс подверг критике эту позицию с опорой на актуальный научный опыт.
Существующие исследования, в основном американского сегмента интернета, действительно доказывают, что алгоритмы популярных платформ усиливают аффективную поляризацию пользователей. С одной стороны, они подсовывают пользователям раздражающий, эмотивный контент, который триггерит и провоцирует агрессивные дискуссии, а с другой — создают пространства для объединения людей с похожими взглядами. Правда, таких исследований можно насчитать аж несколько сотен, и их выводы заметно отличаются в зависимости от теоретической рамки и методологии.
Социальные сети, безусловно, усиливают взаимную неприязнь американцев. Но в них ли все дело? Уильямс считает, что нет.
Несмотря на глобальное распространение цифровых технологий, аффективная поляризация растет не везде — в некоторых странах она, наоборот, снижается. Исследования также не подтверждают рост конспирологических убеждений, хотя именно им часто приписывают усиление раскола.
К тому же США уже далеко не впервые сталкиваются с этим явлением: достаточно вспомнить и Гражданскую войну, и кризисы первой половины XX века. Скорее аномальным выглядит середина прошлого века, когда межпартийное противостояние находилось на исторически низком уровне. Уильямс объясняет это тогдашним элитным консенсусом вокруг сохранения статус-кво в расовом вопросе. Кроме того, текущий рост поляризации проявился еще даже до бума соцсетей.
В общем, США — крайне необычная страна, которая заметно отличается от других демократических режимов по уровню поляризации. И причины этого вряд ли заключаются лишь в росте популярности соцсетей.
Почему американцы ненавидят друг друга?
В чем сходятся большинство исследователей, так это в том, что причины нынешнего высокого уровня поляризации в США глубокие и фундаментальные. Попробуем выделить несколько самых очевидных.
Может показаться, что дело в самой двухпартийности, которая поддерживается мажоритарной избирательной системой и укорененностью двух сил в публичных институтах. Однако существующие сравнительные исследования скорее не подтверждают прямой связи между типом избирательной системы и уровнем поляризации. В конце концов, США — далеко не единственная страна, в политике которой доминируют две партии или коалиции. Значит причины не совсем в этом.
Тот же Уильямс ссылается на хорошо изученный феномен «Южной Перегруппировки», когда во второй половине XX века демократы окончательно встали на путь защиты повестки социальной справедливости, а республиканцы начали работать с белыми избирателями Юга. Эти процессы привели к трансформации простой «партийной принадлежности в “мега-идентичность”, которая охватывает сразу множество других идентичностей и характеристик: расу, религию, географию и даже черты характера».
Принадлежность к одной из двух партий стала не просто вопросом политических предпочтений, а константой, из которой вытекает целый набор личных характеристик человека.
Вместе с формированием «мега-идентичностей» менялся и медиа-ландшафт США. Газеты, радио и телеканалы становились все более политически ангажированными в пользу одной из сил. Например, каналы CNN и MSNBC ассоциируются с либералами, а Fox News или Newsmax — с консерваторами. Уже в наше время к ним присоединились многочисленные новые медиа и блоги, многие из которых радикальнее мейнстримных СМИ по обе стороны: левые The Grey Zone, Jacobin, Current Affairs или правые InfoWars, Breitbart, отдельные блогеры, вроде Алекса Джонса, Ника Фуэнтеса и других. Правда, следует оговориться, что большинство американцев, включая и демократов, и республиканцев, все еще получают информацию о политических процессах в основном из традиционных СМИ. Уровень поляризации в медиа можно также отследить по множеству проектов, анализирующих предвзятость СМИ в Штатах.
Другая актуальная причина роста поляризации — так называемый «дипломный разрыв». За последние десятилетия ядро сторонников Демократической партии окончательно сформировалось из городского населения с высшим образованием, в то время как республиканцы опираются преимущественно на сельский и менее образованный электорат. Естественное доминирование леволиберальных взглядов в медиа, академической среде и бюрократии приводит к отчуждению от них сторонников Республиканской партии. В результате снижается их доверие к публичным институтам, растет интерес к радикальным альтернативным медиа и антиэстеблишментским политикам. Отсюда — текущий подъем MAGA-движения с его оппозицией мейнстриму, традиционным СМИ и интеллектуальному классу.
Аффективная поляризация в США не просто высока, но еще и ассиметрична — эта проблема затрагивает прежде всего республиканцев.
Это вовсе не означает, что демократы остались в стороне. В левом лагере тоже выросла популярность радикальных медиа, распространена вера в конспирологию, обострилась неприязнь к оппонентам. Однако в наибольшей степени поляризация проявляется именно на правом фланге. Это выражается в росте популярности антиэстеблишментских политиков, все сильнее влияющих на Республиканскую партию, в характере медиапотребления и снижении доверия к публичным институтам.
Среди других факторов, которые могли подтолкнуть рост поляризации в США — все еще сохраняющаяся фактическая сегрегация американского общества и периодические экономические потрясения, которые сопровождаются ростом безработицы и неравенства.
Кроме того, аффективная поляризация проявляется неравномерно — в зависимости от обсуждаемой повестки. Так, общефедеральная политика и культурные вопросы разделяют американцев больше, а вот региональные и местные темы — меньше.
По ту сторону Атлантики
Безусловно, пока США остаются сверхдержавой, внутренняя политика этой страны будет влиять на жизнь остального мира. В конце концов, от волеизъявления американцев зависит, кто возглавит мощнейшее государство на планете в ближайшие годы. Согласитесь, это довольно весомая привилегия, которой могло бы позавидовать население многих других стран.
Однако внутриполитические проблемы Штатов не стоит экстраполировать на другие общества. Высокий уровень поляризации там вызван уникальным набором причин, который нигде больше не повторяется в точно таком же виде.
Говоря о политике в Штатах, мы можем позволить себе чуть отстраниться и взглянуть на заокеанские проблемы спокойнее и трезвее — без слепой ретрансляции воинственных нарративов американских политиков и медиа.
Читайте второй номер «Фронды»
Что происходит с современной демократией, правда ли она находится в кризисе, совместимы ли свобода и народовластие — все это вы встретите на страницах нового номера нашего журнала.
Александр Бочаров — редактор журнала «Фронда», автор телеграм-канала «Политфак на связи».